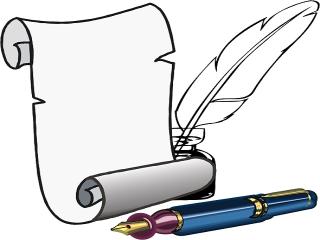НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МИРЕ
Три соседа на лестничной площадке стоят субботним вечером на фоне темнеющего январём большого окна…
Один курит трубку, другой сигарету, третий, собравшийся в магазин, задержался, встретив двоих, и не отказался от предложенной сигареты, хотя бросает курить.
— Я католические церкви больше наших люблю, - говорит один. – Нету этого навязчивого запаха ладана, больше простора и света. Раз в год на Малой Грузинской обязательно бываю.
— Я в Таллинне запомнил соборы, и в Лондоне. Но не католические, сам понимаешь.
— У протестантов тоже просторные храмы.
— Ну да, - включается тот, что собрался в магазин. – Я, когда в армии служил…
И байка уводит разговор в сторону, он ветвится потом, плутает в дебрях подробностей.
Фонари раскидывают световые веера в вечернем пространстве.
На санках дедушка везёт малыша, буксуя в завалах снега, и запинаясь на блестящих промоинах чёрного асфальта.
Сказать несколько слов о мире не получится – потому, что все слова, сказанные, мелькнувшие в голове, сложившиеся в рассказ, или повесть – будут о нём.
Движение субботнего вечера плавно, иногда оно дарит ощущением счастья, но больше накручивает мысли о скорости жизни, когда уже под пятьдесят.
Сосед, давно переехавший, говорил на своём дне рождения:
— До сорока ещё время идёт. А потом – летит, не остановишь…
Узнал на себе, хотя давно не общался с тем соседом.
…мы все, знаете ли, соседи – по глобальной лестничной клетке, только не осознаём этого никак.
Вероятно, если жизнь – всего лишь дорога к смерти, а о другой жизни мы не знаем ничего, в огромной сумятице сил, действующих в мире, не так важно, что делает отдельная человеческая единица – сочиняет вирши, торгует косметикой, бездельничает, собирает монеты, сидит в парикмахерской, злясь на массу бытовых и физиологических необходимостей – не важно в том смысле, что всё вливается в единый поток бурлящей, человеческой плазмы, и огненная плесень на стене старого дома, сложившаяся в экзотические письмена может оказаться значительнее предстоящих сегодня дел. Ибо дела – малы.
Те, кто ворочают миллионами, или отдают приказы, от которых зависят людские жизни, подпадают под власть разнообразных иллюзий, но иллюзии не перестают от этого быть собою – и какая разница: похоронят ли тебя в простеньком гробу, или в роскошном, наводящим на мысль о Египте времён фараонов.
Соседи разошлись с лестничной клетки, и кубическая пустота, пронизанная жёлто-голубоватым искусственным освещением, воцарилась на ней.
— Знаешь, - жена говорит мужу, - вчера вы с бабушкой вечером говорили, а мне вдруг слышится третий голос – слабо-слабо, мужской.
— Да ну! – отмахивается муж.
Потом он видит во сне: некто, с размытыми контурами, не в телесно-конкретной, привычной оболочке, но… как бы реет весь, и этот некто – отец, без которого прошла вся взрослая жизнь, и не вернуться в детство, где папа вёл мальчишку за руку по милому парку с прудом, поверхность которого чертили утки.
Знакомый, утверждавший, что он – один из первых, кто занялся ещё в Советском Союзе парапсихологией, говорил:
— Я чувствую, как отец видит тебя, и он – доволен тобою.
Не проверишь, думает пожилой человек, просыпаясь, перебирая в голове подробности сна… А с тем знакомым давно прекратил отношения, считая, что в речах его больше тихого безумия, нежели здравого смысла и интересных мыслей.
Двери церкви закрыты ночной порой – хотя куда же пойти одиноким, истерзанным бессонницей и мрачными, ядовитыми размышлениями, как не в церковь?
Но – полноте – церковь нынешняя: просто земная, богатая корпорация, и нечего от неё ждать ни сострадания, ни любви.
В складках и дебрях собственного внутреннего устройства найдёшь больше, чем в любом из учений, больше, чем во всех церквях, вместе взятых.
Главное – знать, где искать.
РЫБЫ-МЫСЛИ
Рыбы, подумалось, наполняют воду, как мысли – сознанье; подумал так, глядя в зеркало поутру, и почувствовав себя седоватой рыбой, вмещённой в пространство квартиры (вернее, коридора), как в воду.
Вода жизни с годами выходит из тебя, своеобразная эманация, ибо её – этой воды – остаётся предовольно в пространстве.
Не то, чтобы стоял и рассматривал себя в зеркале, ни к чему это, если возраст размахался к пятидесятилетию, а просто собирался выйти в январские просторы, одевался, и взгляд, не задерживаясь на слишком знакомых предметах обстановки, застрял на миг в зеркальной глади.
Тоже – подобье воды, подумалось уже в лифте, где также помещалось зеркало – на противоположной от раскрывающихся дверей стене. Как иконостас в церкви помещается напротив дверей, но сможет ли душа поглядеться в иконостас, как в некое духовное зеркало? Едва ли. Думать так – рецидив гордыни – горькой, как полынь.
Порожки заснежены, но снег истоптан, а во дворе, между котельной и обширной клумбой, вмещающей пару берёз, снег круто разъезжен шинами, желтоват, с провалами, и даже мнится ухабами – гному точно не пройти.
Сознанье, сильно поменявшееся с детства, сохраняет в себе заповедные зоны детскости, ибо взрослая жизнь сильно напоминает протаскиванье телесного мешка сквозь не зримые дебри пространства.
Мешок ветшает, потом прохудится непременно, и жизнь выпадет из него.
Дубы – О! некогда роскошные, как Византия, дубы, разворачивающие кроны, что знамёна – спилены давно, и пни массивны, обширны, снег покрывает спилы, и своеобразной ажурной бахромой виснет, застревая в неровностях оставшейся древесины.
Вспомнилось летнее (зимой часто всплывают рыбы летних воспоминаний, всплывают из вод сознанья, из подводных слоёв памяти) – собачка на длинном поводке, маленькая, белая, шустрая собачка заскакивает на пни, и старик – хозяин её, сжимая рулетку поводка тощей лапкой, смотрит на неё умилённо, улыбается.
Жалко всех – но это болезненное, странное, тяжёлое – не приближает к огромной всеобщности, колыхающейся вокруг; ко всем тем людям, что идут, едут, спешат – отстранённые от сути, точно отъединённые от неё невидимой стеной.
Стена есть – но зыбкая она, и не факт, что улыбнувшись прохожему, не получишь площадной брани в ответ.
А это явно студенты – вереницей, гуськом бегут они к институту, тут не далеко, и общежития – огромные и плоские, торцами повёрнутые к проезжей части, встают на противоположной стороне улицы…
Перейти ли её? Приблизиться к тем коробкам, глянуть праздно в широкие стёкла первых этажей? За одним из этих стёкол – тренировочный зал, станки поблескивают блестящими деталями, и то, что ходил когда-то заниматься, уже застилает туман, мерно наползающий на память.
А вот – приводили в детский сад, и приятель выбегал встречать, показывая машинку, и девочка выходила, спрашивая: Нравится ли тебе моя кукла?
Помнится, но – как изображение на старой фотографии: размыто слегка.
…на буфете стоят фото: бабушка и дед, какого не мог знать, ибо погиб в первые дни войны, будучи пограничником, а бабушка нянчила так долго-долго, будто целую жизнь, а умерла – двадцать лет назад; на фотографии, что поместили на граните, она молода, и такой её никогда не видел…
Ещё одно фото с буфета – дядя и тётя, дядя был крестным, тётя… пережила его, умершего внезапно, ничем не болевшего, на год, и сумма воспоминаний, связанных с ними так пестра и красива, что веера эти почти не застит туман…
Топча снег, буксуя иногда в завалах, человек переходит улицу, минует аптеку с ярко горящим над нею крестом, и, пройдя узким перешейком между общежитиями, растворяется в пространстве – просто человек, несущий в сознанье рыбок мыслей – как все прочие, вероятно.
МАЛЫШИ
Раздевает малыша: они опоздали в сад – сынок никак не просыпался; раздевает, сам потея в дублёнке, водрузив мальчишку на колено, стягивая с него комбинезон, а из обширной комнаты, что у них, у малышей, совмещает и игровую и спальню, и столовую – только декорации меняются – выскакивает мальчишка: такой же подстриженный, как его малышок; мальчишка держит в руках оранжевую машинку, говорит, нежно выдувая шарики звука:
— Во, сотри, Арюш…
И малыш с колен отвечает:
— Ага... Ой…
Пожилой отец поставил его неудачно, тут же подхватил, натягивая шортики.
— Красивая машинка, - говорит взрослый. – Сейчас, переоденемся, и – к вам.
Три девочки выскакивают:
— Арюша пришёл!
— Арюша, тебе нравится моя кукла?
— Арюша, сиас подём петь…
Малыш улыбается, будто погружённый уже в эту свою особенную жизнь, он кивает всем, лопочет.
Девочки раньше начинают говорить – ну, вы знаете.
Малыш готов, и воспитательница выводит вереницу деток: вернее, организует её постепенно в раздевалке, малыши рассыпаются, она строит их, наигранно покрикивая, и, пожилой отец, сидя на маленькой скамеечке – не сможет выйти, пока они не уйдут, наблюдает, видит, как сынок Андрюша занял место в серёдке веренице, держа за крошечную талию впереди стоящую девочку.
Нянечка выходит.
— А где Андрюша-то?
— А вон, - отвечает отец.
— Не узнаю без кудрей.
— Да, по-мальчишески подстригли.
— Так, солнышки мои, - возглашает воспитательница, - идём тихо, как мышки, не мешаем другим заниматься, а в зале будем учить весёлые песенки.
И вереница медленно двигается вверх по лестнице, и отец, спускаясь вниз, к выходу, видит, как его мальчишка шустро исчезает – будто растворяется в высоте, ведущей – очень, очень медленно – к призрачной взрослости…
ФОТОГРАФИИ
Дед погиб – пропал без вести в первые дни войны, был офицером пограничником, и, силясь представить его, постоянно оказываешься в тупике: всё равно, что пытаться сохранить, тратя неимоверные усилия, руины семьи.
Помнишь, как бабушка рассказывала:
— А маму он называл Лялькой – куклой. Он накупал коробки пирожных, когда ходил гулять с нею, и я спрашивала: "Зачем столько?" А он отвечал, смеясь: "А мне нравится, как она выбирает, пальчиком тычет - вот это ещё, и это…"
Бабушка долго нянчила меня, да не воскресить младенческих воспоминаний, ибо нельзя поднять то, чего нет; она, калужанка, переехала в Москву, оставила работу, когда родился я – третий внук (братья только двоюродные): самый проблемный, и самый, как рассказывала мама, любимый.
Ходила со мной гулять бабушка? Не найду этой карточки, этого листка в картотеке воспоминаний, которую нельзя оцифровать. А вот – идём с нею между дач, чья сумма под Калугой, организует целую страну, идём к маленькому магазину, где хочет она купить чашку в подарок… но не помню кому…
Помню – единственные свои часы, подаренные ею, когда было мне лет 14… что ли?
А пироги её, сласти! Торт "мишка", нежные коржи которого прослоены чудесным сметанным кремом! Сочность многоэтажных наполеонов!
Брат показывал старую съёмку: его свадьба, на которой не был, громыхала и шумела на даче, и бабушка смотрелась там царственно, важно…
Фотография бабушки и деда на буфете – огромном, как готический собор: в миниатюре, конечно, украшенном бессчётными завитками; старая фотография, вглядываясь в которую, как будто вспоминаю то, чего не могу вспомнить; либо проникая в тайники общечеловеческой плазмы, представленной крошечной каплей рода…
…гимназическая подруга бабушка раз, очень давно, в Москве приходила в гости с внуком, помешанном на генеологических древах, и он, развернув длинный свиток, показывал, объяснял: род восходил к началу шестнадцатого века, и было невозможно представить всё это усложнённое ветвленье, витые переплетенья судеб.
— А теперь пойдём смотреть твои деньги! – улыбнулась мне бабушка, ибо мне не терпелось показать гостям монетки, размещённые в пластиковой, специально обработанной бабушкой же ленте: монетки разных стран, где первыми лежали представителя Люксембурга и Непала.
Бабушка рассказывала много – о тяготах эвакуации, послевоенной жизни; о старом житье в калужском бревенчатом доме, от какого помнится только дикий запущенный сад, да ещё – мощная гроза, когда молнии выхватывали то часть шкафа, то тёмные лики икон, и бабушка – ба, как её называл, - успокаивала: Не бойся, маленький, это просто дождь…
Бабушка, рассказывая о своём отце, называла его профессию – землеустроитель, и я не понимал, кто это, и она объясняла, как могла, а когда я стал сочинять, записала в двух школьных тетрадях суммы своих воспоминаний, записала бегло, где подробности мелькали редко, но восстанавливалась общая ткань жизни; отдала мне те тетради, сказав: Вдруг пригодятся.
С гранитной плиты смотрит на меня фотография бабушки – я не мог её знать такой; не представляю её в том возрасте, как совсем не представляю деда.
А на буфете, рядом стоит ещё одно фото: дядя и тётя, и горизонт схожести выявляется то резко, до физической ощутимости, то смутно, будто размыто, как-то странно.
Дядя был крестным: пустотелый, огромный, калужский храм, друг дяди отец Михаил: могутный, басовитый, точно из Лескова изъятый, массивная купель, повелительный перст священника, обращённый к старушке, похожей на сверчка: Читай!
И та читает «Верую»: монотонно, быстро; и я смотрю – двадцатисемилетний – будто со стороны на происходящее со мною, не зная, куда я пришёл, и что будет дальше…
Потом ехали на дачу, где жили летние месяцы, а я, хоть и формально гостил, но был роднее родного, и тётя, такая же крупная, как бабушка, спрашивала:
— Ну как, Саша, что-нибудь чувствуешь после Крещения?
И я честно отвечал:
— Ничего!
Дачные трапезы на свежем воздухе: стол был врыт не далеко от веранды, а скамейку врывал я, глубоко врезаясь в землю, что-то рифмуя о ней в сознанье! Трапезы – торжественные, как праздничные, хотя ежедневные, всегда обильные…
Тётя – дитя войны, ибо родилась в июне 41 – много болела, что не мешало быть ей весёлой, и радоваться жизни так, как я не умел никогда…
Они умерли все. Фотографии смотрят с буфета. Я вглядываюсь в их лица, и, блуждая в лабиринтах воспоминаний, тщусь представить себе нечто большее, чем свой, только отчасти уютный, мирок, - тот океан всеобщности, в который входим все мы, вливаемся тоненькими струйками жизней – удачных, не удачных, какие получатся; и жалко всех, жалко – до выступающих, горяче-горючих слёз.
ЭТОТ - ЧЕТВЁРТЫЙ
Путь денежной купюры не проследить в человеческом множестве, как не проследить же в нём все нити судеб, точно теряющиеся в бесконечной массе движений и перемещений людского вещества…
Так думалось, когда после мутной утренней ссоры с женой в сознание возникло ощущение руин семьи, какие тщатся сохранить, забывая через какое-то время конфликты и ссоры; так думалось после ссоры, случившейся уже после того, как отвёл малыша в детский сад, и его радостно выбежали встречать четверо ребятишек, протягивая игрушки, ликуя, и он отвечал таким же забавно-умилительным ликованием; так думалось, когда, выйдя бродить на улицу, вдруг в сугробе в пустом проулке увидел денежную бумажку – наклонился, поднял, и к неимоверному удивлению идентифицировал её: 5 тысяч…
С некоторых пор безработный, много печатающий и практически ничего не получающий литератор, живущий за счёт маминых сбережений, скромного процента – плюс яростный нумизмат, хорошо и сложно знающий монеты, ощущающий через них мистическую связь поколений, воспринимающий их сгустками истории и культуры…
За много лет собралась приличная коллекция различного серебра: пёстрое собрание нумизматического материала, как он шутил, странно похожее на его судьбу – раритетов нет (и быть не может, но всё же посмотреть приятно, и… вдруг малыш заинтересуется, когда подрастёт, а если нет – продать сможет, серебро не падает в цене ни при каких режимах), но всё же нечто интересное встречается…
Он и сам не понял, как ноги вывели на дорожку к ярмарке увлечений – приличному торговому центру, разбитому на многочисленные отсеки, где чем только не торговали.
Дорожка вилась меж домами, заснеженные дворы, знакомые наизусть, всё же открывались новыми и новыми ракурсами; он шёл, спускаясь к не замерзающей реке, к горбатому мосту, и думал мучительно, что купить – пять крон Австро-Венгрии, с последним Габсбургом, пять крон, посвящённые 60-летию правления, или победный талер, или… комбинации пестрели и крутились в голове, отливая тусклым старым серебром.
Машинку мальчику! Да, конечно – даже не из-за того, что мало игрушек, их достаточно, а чтобы ещё раз увидеть ликование малыша, когда он бегает с машинкой, целует её, катает по всей квартире, и глаза светятся так, будто нет ярче света…
Шёл лесопарком, шёл быстро, миновал пруд, за которым блестели горки, и каталась с них детвора, вышел на улицу, пересёк её, стал переходить вторую, и упёрся в синий бок резко остановившегося трамвая.
Как преграда, пронеслось в голове, ибо не обойти, нужно ждать, когда проедет.
В недрах ярмарки увлечений замедлил ход – к кому из знакомых? Или завернуть к новому торговцу, у какого ничего никогда не брал?
Или…
Вот и игрушки, сколько машинок! Мил трактор, везущий в контейнере двух коров, у малыша нет ничего похожего, и… если свернуть сюда, и…
Вот под стеклом альбом с явной Германией, и толстый дядька пялится в монитор, излучая абсолютное равнодушие к заходящим.
— Извините, а Гамбурга пятимарочника начала двадцатого нет у вас?
— А не помню, - дядька вяло отворачивается от монитора. – Посмотрите. – Он ныряет рукой в пространство прилавка – как рыбка уходит в воду – и достаёт альбом.
Листай толстые страницы, смотри…
Вот они – львы Гамбурга и рыцарский шлем над ними, вот они, желанные!
Но страницы листает дальше, и течёт серебро, играет оттенками.
— Возьму всё же, - и протягивает купюру.
Найденную купюру.
…тогда и подумалось о невозможности проследить путь денежной бумажки в человеческом множестве, тогда – и ещё когда покупал трактор, и шёл домой, на миг представив огорчение потерявшего…
Не последние у него, значит, коль так рассеян, или пьян, не последние – а я, работавший всю жизнь, такую купюру видал всего три раза.
Этот – четвёртый.
МЕДЛЕННО РАЗДВИГАЕТ ПОРТЬЕРЫ РАССВЕТ
Звуковая гроздь советского гимна раскалывается над головою в шесть утра, и пожилой человек вскакивает от ощущения, что вернулся в Советский Союз.
Слова иные, но тяжёлое прохождение того же звука через недра мозга создаёт ощущение дежавю.
Человек трёт глаза, обрывочно вспоминая кадры сна, он не может их восстановить в уже не свежей памяти, переполненный чешуйками, скорлупками, кусками воспоминаний и впечатлений.
Зато, когда умывается, отчётливо вдруг вспоминает старый коммунальный дом, огромные их две комнаты, молодых папу и маму, ёлку, казавшуюся гигантской, что наряжали во второй комнате, между двумя окнами: низкими окнами, ибо жили на первом этаже.
Человек выключает кран, вода из которого лилась, пузырясь, как из колонки в провинции, где провёл немало детских месяцев: великолепная, студёная вода, хлещущая по обомшелому стоку.
Гимн быстро отзвучит, но махину Союза не восстановить, и все попытки тщетны – как попытки склеить давно расколотые отношения двух людей.
А что? Прошлое и настоящее вполне тянут на двух гигантов.
Человек наливает себе кофе и делает бутерброды.
Он помнит, как бежал во Дворец пионеров – массивный, как храм, где занимался сначала рисованием, но чистые листы покрывались уродливой сеткой линий, и преподаватель вздыхал разочарованно; а потом – туда же – на плавание, при чём бликующая, синевато-зелёная вода приятно отдавала хлоркой.
Плаваньем занимался дольше, чем рисованием – года три, и бросил, когда переехали в отдельную квартиру – родителям далеко было возить мальчишку.
Зимнее, ранее утро, январская темнота, но если подойти к окну, видны горящие фонари, белая ткань снега, и окна соседних домов, сложенные в причудливый цветовой орнамент.
Сегодня Крещение.
Один раз ходил за святой водой, ходил в старую церковь, расположенную неподалёку, массивную, сложно устроенную; а разливали её в нижней церкви; длинную, от кладбищенской ограды выстаивал очередь, ноги мёрзли, а в дверях несколько крупнотелых и плосколицых людей организовывали проход – определённая порция людей запускались, другие оставались ждать.
Горели костры свечей, копьеца огней дрожали, сливаясь в жёлтую массу, иконы равнодушно наблюдали процесс движенья, скученность зимних, толсто одетых людей.
Из огромных чанов воду разливали старухи, и поразило сочетание их ветхости с неустанностью, неутомимостью: сколько движений делали, взрослый, крепкий мужик устал бы – а лица старух сияли.
Вспомнился опять удар гимна, точно расколовший сознанье, в котором давно всё плетётся, путается в единый ком, и не можешь понять уже: ты ли был тем ребёнком, что выводил велосипед из подъезда старого дома, или ты просто наблюдал эту картинку со стороны.
Фонари гаснут постепенно, медленно раздвигает портьеры рассвет – бледный, точно испуганный.
Новый день начнётся, который надо прожить, перевалить через его хребет, и нет занятия труднее, хотя не объяснишь никому, в чём его свинцовая трудность.
А за святой водой больше не пойдёт.
ГДЕ ЭТИ ФОТОГРАФИИ?
Бродили по городу, выбирая необычные, сочные, смачные кадры, и Серёга, учившийся во ВГИКе на оператора, превращал их в загадочные, с оттенком мистики фотографии, а Сашка, работавший в библиотеке и мечтавший стать писателем, просто указывал иногда:
— Гляди, а вот неплохо бы снять было!
Вспомнилось – в одну из осенних прогулок, когда дожди уже ожидались, но ещё не набрали реальную силу, только накрапывало иногда, Сашка, поставив вертикально на пустующую, белую скамью зонтик, сказал:
— Глянь, прямо панорама фильма – вернее, его начала. Снимешь?
И Серёга щёлкал массивным, японским аппаратом, ради покупки которого продал кое-что из вещей.
В другой раз курили у Сашки на лоджии, и тот, бросая окурок, произнёс:
— Вон, веером сиреневых, красных и прочих брызг распускается окурок, попадая на куст. Можно снять?
— Пожалуй. – Отвечал Серёга. – Но мне долго придётся ловить момент, а тебе искурить бессчётно сигарет.
Сашка смеялся:
— Ради отличного фото можно!
Действительно, точно раскалываясь о куст, окурок рассыпался хвостом жар-птицы: великолепно, ярко, чуть видоизменяя сумерки, или ранний вечер, но момент кратковременен, и поймаешь его разве?
Зимой останавливались под намёрзшими сосульками, точно ледяные горы, обращённые вниз, свисали диаграммами, переливающими холодными массивами, и невозможно было пройти, чтобы хотя бы просто не полюбоваться.
А людская плазма текла мимо, не замечая.
— Глянь, а!
И Серёга соглашался – диво как хороши! – снимал, выбирая наиболее интересные ракурсы.
Между алюминиевых телефонных будок, какие были привычны тогда – жёсткие ветви кустов: точно сжатый, никем почему-то не слышимый крик.
А вот ключ – впечатанный в асфальт, и Серёга снимается его как бы изолированно – часть собственного ботинка, фрагмент пористого асфальта, ключ…
— Занятно получится.
Однажды просил Сашку позировать для зачёта по фотографии: выбрали на ВДНХ, возле которой Сашка жил, довольно колоритный, всегда закрытый дом – по виду годов пятидесятых, и живописные зелёные заросли у одной из дверей чем-то заинтересовали Серёгу.
Он снимал приятеля на фоне двери, просил закурить, потом сделать то, или иное движение…
Интересно, где теперь эти фотографии, сделанные в конце восьмидесятых?
Серёга стал снимать коммерческую рекламу, оставил мысли о серьёзном кино, бросил ВГИК, уехал надолго в США, вернулся с потухшими глазами и сединой…
А Сашка… Не хочется вспоминать о бесконечных усилиях воплотить себя в слове, тяготах пробивания в печать, о бессмысленности публикаций художественных текстов в наши дни: шумящие страстями, налетающие мусорным ветром денег, объедающимися шоу-бизнесом и чтивом…
И всё же – где эти фотографии: такие тонкие, художественные, столь напоминающие хрупкие частички воспоминаний?
Невозможно установить.
ГОФМАН
Гофман знает льющиеся ленты времени, и то, как можно, взмахнув пером, точно опахалом, сделать их твёрдыми, и идти по ним, заглядывая в кольца будущего, и в овалы параллельных, не похожих на наш миров.
Он сидит в трактире возле дома, заказывая новые и новые кружки пива: высокие и оловянные, они заполнены жидким янтарём счастья, которого так не достаёт в жизни.
Мимо окна пробегают два весёлых студента, фалды кафтана одного из них удлиняются, и вечные забавники-мальчишки уже мчатся за ним, а другой студент взлетает, превращается в странную птицу, какую ждут в кустах боярышника две весёлые змейки, умеющие говорить, каждая - с изумрудными глазами.
Гофман выходит из трактира на обычную – гнутую и такую милую, мощённую булыжником улицу, он равнодушно проходит мимо бюргеров – крепких и ладных, как их жизнь, он заходит в дом, поднимается в свою комнату.
Листы бумаг стопками, похожими суммарно на белые, все в метинах текстов горы, громоздятся на столе, и Гофман знает, что надо зажечь свечу, садиться к столу, навести относительный порядок и продолжать повествование, какое разовьёт волшебные кольца, обещая ему праздничную, всю в огнях ночь.
Архивариус сидит в кресле, улыбаясь в серебряную, текущую бороду, и когда загорится свеча, борода вспыхнет золотисто, как волшебная.
— Она и есть волшебная! – говорит архивариус, хитровато прищурившись. – Сейчас она вспыхнет игрою сюжета…
И Гофман верит ему. Ибо чему ещё верить? Грошовому жалованью мелкого конторского служащего? Реальности за окнами, где алхимик встречается реже, чем торговец, или скупец?
— Верь алхимии своего сердца, - говорит архивариус.
И Гофман выводит на крышу волшебного Мура, чьи записки, сам будучи отчасти котом, превращает постепенно в увлекательный эпос, в художественно-философский трактат о данной жизни, какая в трудом поддаётся коррекции.
Гофман увлечён, перо его подрагивает, уплотняя ленты времени, и капельки современности – той, что будет через двести лет – стекают на бумагу, становясь чудесной игрой слов или муаровыми образами.
Карета, запряжённая стрекозами, взлетает; ночные тени резвятся за окном, как эльфы, и дело движется к рассвету, медленно, неуклонно – к рассвету, когда надо ополоснув лицо и руки, выпив стакан молока, поскольку на кофе нету денег, вздохнув, идти в контору, и из волшебника превращаться в заурядного мелкого чиновника.
В кресле нет архивариуса, и значит – пора…
СОВРЕМЕННОСТЬ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Инквизитор, довольный собой, ибо выявил сегодня три отступника-еретика, выходит из чёрных страшных дверей коллегии, чтобы погрузиться в плавное течение мощёной камнем улицы.
Он идёт, оглядывая узкие пространства между домами, наполненными тесной, плотной жизнью, и думает, вздыхая, сколько же ещё ересей гнездится в сердцах людских, сколько умов поражено ими – тут никакие дыбы, испанские сапоги, и огненный металл не помогут.
Чтобы как-то подкрепить себя, он заходит в трактир, где пламя в очаге пылает ярко, и пахнет жареным мясом, молодуха приносит инквизитору сыр, хлеб и кувшин вина, и он начинает трапезу, вслушиваясь в разговоры.
Но – ничего интересного, говорят, как большинство людей, о всяких пустяках, житейской мелочи…
Больной князь ворочается на перинах, ему не до удовольствий ныне: неизвестная болезнь крутит его нутро, и сколько бы лекарей не осматривали, сколько бы не делали ему припарок, вливания, отворения крови, легче не становится, и ничто теперь – ни полные сундуки, ни роскошное поместье, ни городской, громоздкий, как крепость, дом, не радуют его…
Маленький базар на городской площади: гуси в плетёных корзинах, сыры, хлеба, торговки говорливы, горазды обсуждать товары соседок, и зазывать клиентов…
Важный господин проезжает верхом мимо, он глядит равнодушно на маленький базар, на окошки домов, островерхие крыши с флюгерами, слуховыми окнами, и направляет коня в очередное ущелье между домами.
Что делает алхимик? Глядя в пузатую колбу с мутным содержанием, думает он, что эксперимент с гомункулом не удался, и масса веществ, эфемерно уплотняясь и снова становясь жиже, не превратится в человечка; он думает о сущности философского камня, какой необходимо вырастить в душе, обращая в золото мысли свои, и тогда жизнь…
Жизнь вокруг собора, какой, в сущности, целая страна, огромна, ибо никто из горожан не минует его каменной силы, и святые, чередой впечатанные в портал, смотрятся отчасти горным кряжем, отчасти укором – мол, плотские люди так не укоренены в вере, как были они, ныне ставшие камнем.
Собор можно читать, что книгу: вот рыцарь, чуть вознесённый над драконом, какого надо сразить в себе, чтобы воспарить, вот витая кафедра, с которой звучат сложные рацеи, изощрённые, узорные, как она проповеди, а вот…
Вот выход из врат собора – в обыденную жизнь, какая и есть современность для всех этих князей, инквизиторов, торговок, алхимиков, и просто, просто людей, бессчётно влитых в историю, для возможного, гипотетического будущего, о каком задумывается совсем не каждый.
МУТНО-МЫЛЬНЫЙ СВЕТ
Трамвай, катясь плавно и кругло, показывал, точно разрозненные кадры, городские виды, где панельные, брежневских времён многоэтажки, перемежались с нынешними домами повышенной комфортности, а широкие дороги изгибались, пропуская сплошной пёстрый поток машин.
Январский свет был мыльно-мутным, праздники давно отшумели, и обыденная жизнь дарила, как всегда, заурядностью.
— Как же ты не чувствовала пять дней, ма?
— А не пойму, сынок. Вот, если бы вчера программу по радио не услышала, и не поехала бы в травмпункт. Ладно, даст Бог, всё обойдётся.
Седобородый сын в старой заношенной дублёнке, не реагирует на Бога, отворачивается, глядит в окно. Панорамы городские скользят и сквозят, и видно, как на заснеженных площадках дворов, резвится ребятня.
Пять дней назад мама, переходя улицу, была задета машиной.
Ничего страшного казалось, но всё вздыхала:
— Как же со мной такое случилось, не пойму… Всегда перехожу так осторожно…
Нога побаливала, стала пухнуть, и вчера вечером, мама, слушая радио, была подхлёстнута какой-то медицинской передачей… сын не ведал, какой именно.
Она засуетилась, стала собираться в поликлинику; сын посмотрел в интернете травмпункты на их улице, но ни одного не обнаружил.
Он сидел с болеющим малышом, какой, несмотря на отит, оставался резвуном, шумным игруном, вечным двигателем.
— Не могу с тобой, ма.
— Да, понятно, сынок. – Мама собиралась быстро: вечер стремительно, как оголтелый мальчишка с горки, катился в густую, фонарную тьму.
— Телефон мобильный возьми.
— Конечно, конечно.
И она ушла, а бездна квартиры огласилась кличем малыша, забравшегося на сооружение из подушек, и плюхнувшегося вниз.
Жена задерживалась в офисе.
Куски времени валились в никуда; мама написала: "Очередь, жду".
Потом позвонила, сказала, что рентген показал трещину, что предлагают наложить гипс, не знает, соглашаться ли…
Она вернулась поздно, решила завтра утром ехать.
— Разумеется, стоит наложить, - говорил сын. – Учитывая твой возраст, ма…
Они ехали утром сквозь мыльно-мутный свет финала января; корпуса больницы, пышно и мощно раскиданные по огромной территории: той больницы, в роддоме которой появился малышок, проплыли, точно крепостные сооружения; тянулись всяческие городские подробности…
Вышли – он держал маму под руку – на одной из остановок (тоже: звенья цепи, подумалось почему-то сыну), свернули в ущелье между многоэтажками, в бело-синеющий зимний провал, под снегом которого предательски таился чёрный лёд.
— Осторожно, ма.
— Да, да, сынок.
Поворачивали, переходили улицу, снова поворачивали.
— Там затрапез такой советский, - говорила мама. – Но врач молодой, улыбчивый, показалось: хороший.
— Надеюсь.
Они вошли.
Обширный квадрат помещения, и люди: кто с перебинтованной рукой, кто на костылях: все по двое: выросшие дети с пожилыми мамами и отцами; и вороха бахил прозрачно синеют в огромных пластиковых ёмкостях.
Сын натягивает на массивные свои сапоги…
— Да, тебе не надо, наверно…
— Как? С тобой не идти?
— Нет, что ты. Вот здесь всё, на первом этаже.
— Ладно, надену на всякий случай.
Мама оставляет пальто, шапку, платок на пластиковом кресле, чей ряд белеет, уходя к дверям, за какими изгибом, мерцающим янтарно, видна лестница.
Мама уходит, сын достаёт мобильный, и начинает, приготовившись к долгому ожиданию, читать и стирать письма – в основном от жены, и свои, посланные ей же, в большинстве: о малыше, о его жизни.
— Вот и всё! – слышит сын и видит улыбающуюся, точно помолодевшую маму.
— Как? – он вскакивает удивлённо. – А гипс?
— Уже наложили. Он тоненький.
— Ты сможешь идти?
— Конечно. Трещина всего лишь.
И они одеваются. И они совершают обратный путь.
И снова город – его части, фрагменты, не самые красивые, разумеется – качаются в окнах трамвая, неспешно, плавно, едущего, плывущего через мутно-мыльный свет финала января.