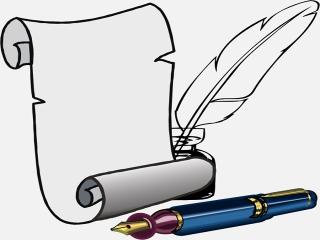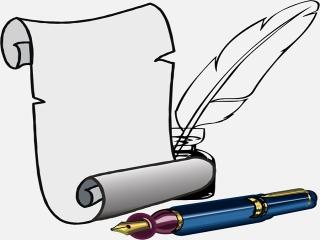Из ниоткуда – из разливов лугов и лесополос – материализуется, точно мираж, вдруг оказавшийся реальностью – городок: невысокого облика, должно быть скромного нрава, без особых претензий на историческую хронику, да и история, казалось бы, должна обойти его…
Дома всё одноэтажные, и улицы тянутся меж них скучные, пыльноватые, но жителям, видать, по нраву подобное житьё…
Приезжающий ночью выгружается из светящегося жёлтым огнём автобуса, чтобы оказаться на антрацитом отливающей площади – с непременным памятником, и долго думать, в какую сторону пойти, чтобы найти единственную в городе гостиницу, в номере которой попытка открыть окно обязательно закончится падением рамы…
Городок расширяется дальше: после улиц с низенькими частными домами – редко среди них мелькает более высокий туз – следуют кирпичные коробки, и четыре, пять этажей воспринимаются «небоскрёбным» ростом после низких партикулярных владений…
Будет и ещё площадь, обрамлённая особнячками – из девятнадцатого века, и даже пораньше; тут же и горуправа, и почтамт, и здание суда… А меж двумя магазинами помещается, мерцая гладью, синеватый пруд.
И туго, с неохотой верится в длинную историю оного городка, в её тернии и богатства.
Сжатое до сегодняшнего дня время, не позволяет представить монголов: вот мчатся они в захлёсте вихреобразном, налетают на посад, и стрелы свищут; городок был строптив, а наказание за строптивость – кровавым…
…Ветшают слои истории, распадаются, и власть иная меняет предшествующую, и долгое время царит здесь Рыбный царь.
Царит он – как всякий царь, почитая лишь то, что любит – всё сводя к рыбе, к уловам, всех заставляя тягать в речушке и прудках разнообразную снедь, сдавать ему данью.
Даже сверкание серебряной чешуи приятно ему, такому царю, а уж пиршество!
И терем его был высок – расписной, переливался крышами, где цветные деревянные чешуйки закручены были рыбьими хвостами; и несли, и везли к терему рыбу – много, разнообразно, до бесконечности.
Впрочем, бесконечность не складывается у любой власти, как бы ей того не хотелось.
Рыбного царя сменит Мясной – поведёт бригаду свою, улюлюкая, на роскошный терем, и бригада, упитанная мясом, сокрушит предшественника.
Крики понесутся: "Что рыба! Рази ж еда! Вот мясо – да!" И рыбьи хвосты на крышах упразднят, а заменят их чем-то неопределённым. И хронику возьмётся писать рифмоплёт и виршеслагатель, не зная, как выслужиться, чем заработать полтинку, тоже стремясь к мясу, к изобилию его…
Прудки и речки теперь нужны только для выращиванья скота, а травы, лугов в окрестностях довольно; и поэтовы хроники не нужны, как не нужна никому мыслительная обуза, ибо есть - наше призвание, есть и торговать.
Купцов принято выводить из яиц, а яйца сии добывать из почв: есть такие золотящиеся слои, и кто нашёл яйцо – будет тому свой купец. Правда, долго надо возиться, чтобы яйцо возросло, напиталось силой: поливают его разными водами и составами, ждут кропотливо, и вот – лопается скорлупа, отлетает, как ненужность, и выскакивает он – маленький, розовощёкий, румяный…
Всех купцов свозили к Мясному царю, но каждый привезший получал долю в мясном управстве. "Самоуправстве!" – кричали не способные добыть яйцо и вырастить купца. Но их затыкали быстро – молодцы, упитанные мясом и кровью, верная надёжа мясного царя.
А купцы росли. Яйца, что находили уже они, были другого свойства – из какого подвода вылупится, из какого товаров упаковки…
Стали купцы потихоньку встречаться в укромных местах, в тёмненьких, жизнью обойдённых закутах; встречаться стали – шушукаться: мол, зачем нам царь? Сами управимся. А поскольку питались хорошо, да в телах все были – пошли, да и разорили терем, да и повыгоняли бригаду Мясного.
И стала власть купецкая – торговая, тороватая, с прищуром. "Кто не торгует – виноват!" – объявлен было.
И побежал простачок - куда глаза глядят, и поэт припустился было, да купцы границы поставили незримые: прочнее прочного, чтобы ни одна дребедень не просочилась, ущерб торговлишке нанеся.
Меном увлеклись купцы, коли уж удалось набрать столько мелочи:
— А вот кому простачок зуб-с-присвистом?
— А кому поэт что-хошь-зарифмовщик?
— Дурачка нос-с-нашлёпкой не желаете?
Ибо чем они все отличаются – кто не торгует, да у кого деньги с гулькин нос? У одного глаз косит, у другого бородавка на щеке – вот и вся разница.
Мен у купцов богатый. Новой власти не предвидится. Деньга течёт и каплет.
Стали ту деньгу в землю сеять – вдруг да взрастёт? Сеяли, поливали, минеральные удобрения добывали, руки потирали.
…А шёл к ним в город уже – шёл, аж пыль по дороге клубилась – Начпрям. Так и именовался, ибо утверждал: Главное, чтобы прямо. Иначе, полагал он, яма.
И сам был рослый, прямой, с прямыми такими, точно по линейке выкроенными чертами лица.
Шёл, пыль клубилась, вилась за ним – в пыли той купцы, так и не дождавшиеся денежных всходов, и задохнулись: а кто не сумел, того столбом завихрённым унесло.
— Зачем нам купцы-то? – Глаголил Начпрям. – И без них житьё получится. Главное - чтобы прямо.
И стали все всё равнять. А что? Не на далёком острове живём – у себя: ровное значит правильное.
Вылезал хроникёр, что-то там кропавший в своей домушке, ворчал – мол, ровной история не бывает! Но жители, устав от купецких кривоватых загибов, быстро с ним разобрались: и в домушку затолкали вновь, и хроники его изорвали, раз не разровнять, и пригрозили – ровненькими такими голосами: Будешь мешать, и тебя выровняем.
Были придуманы даже уравнивательные машины: чтобы всех! ВСЕХ! вытянуть: до Начпряма не получится, конечно, но хоть так, немножко.
Прямомашины стали двигаться по выровненным улицам, и прямоденьги шелестеть приятно, всех радуя… Всё налаживалось, в общем, только вдруг стал Начпрям кривиться. Стал – и всё тут, сгибаться стал в сторону всё больше и больше, и вышел – Начкрив.
Тотчас объявлено было, что суть всего в Кривизне, и те, кто раньше прямили охотно, стали кривить: улицы вышли с загогулинами, хроникёр, стервец, оказался прав: прямого история не знает… Да уж изорвали его хроники-то, а больше он не писал: боялся.
Кривили жители, кривили, да Начкрив взял и загнулся. И ловко так – через перильца перевалился, будто телом перетёк, лужицей по земле расплылся, да и испарился. Стали жители, руки расставив, рты раскрыв, кто же управляться-то будет? Али позвать кого?
— Да не, - выступил хроникёр. Надо ж ему было заместо хроники чем себя занять: Сами найдём, среди себя.
— Кого ж искать-то? Всяких видали – теперь на кого поглядим?
— А вот хоть меня возьмите, - хроникёр сверкнул глазком.
— А что ты нам предложишь?
— Хроники писать! Каждый сидит себе дома, и пишет – об чём заблагорассудится.
В затылках чесать не стали – и без того чёсанные. Сели – писать. Каждый у окошка пёрышком скрипит, про шариковые ручки не слыхали, скрипит себе – жизнь описывает. А она – не подарок в конверте к Курицыну дню: такие при Мясном царе праздновали.
Диво потом появилось: помощники хроникёровы, из самых писучих, притащили откудова неизвестно: пишущие машинки. Стали раздавать. Каждый брал, и хроники теперь на машинках отстукивал: быстрее шло.
Дома запустили, хозяйство по боку: сидят, стучат. Дети от голода пусть хоть рёвом надорвутся – некогда: пишем. Все в писанине погрязли, а хроникёр пуще всех: прямо – как при Начпряме – лентами бумажными всего завернуло, захлестнуло, и удушило, не разорвать было.
Опомнились жители, стали тут уж затылки чесать: как, мол, так вышло, что за писаниной этой и жизни не взвидели? И давай думать – что теперь… А уж топал Новак, хлюпал носом, бормотал: "Всё обновим".
Что ж, встретили и Новака. Залез он на возвышение деревянное, вытащенное им же из пустующего терема, и стал правой махать:
— Всё обновим! – кричал. – Всё! Всё!
И стали обновлять помаленьку – где старая помойка, там новую навалят, где старый домишко – снесут, новую развалюху вкривь-вкось нагородят.
— Главное, - лозунг был – процесс обновления. А какой уж там результат – хоть чёрт не брат.
С логикой у жителей худо, зато страсть к обновлению разгорелась! Только держи.
А Новак свешивается с балкона терема, кричит:
— Обновлям-с! Миром, дружно! Все в Обновлям-с.
— Обновлям-с, - так городок решили звать.
И обновляют – новые помойки растут, развалюхи поднимаются, старый пруд закопают, новый выкопают, да воду, как пустить не знают – и растут ямины: обновлям-с…
Трудились, трудились, а потом подумали – надо бы и Новака обновить, а то что ж… Всё обновлённое, а этот уже старый какой-то: всё с балкона свешивается. Вытащили его из терема – и давай обновлять. Он верещит, отбивается – а им-то всё равно, сам же говорил – главное процесс. Тут от него кусочек отрежут, там пришьют. Стала из него начинка вывалиться, подбирают, на ломти стругают, новую суют. Не выдержал Новак, да и весь развалился.
Стоят обновлялы над ним, думают – что ж теперь? Кусочки валяются пёстрые – куда девать-то? На какую из помоек новых оттащить? Оттащили.
— Что ж мы теперь – не Обновлям-с? – загорюнились.
— Стало быть, нет! – хмыкнул некто.
— Кто ж сам-то? – интересуются.
— Из простецов буду, - говорит.
— Во, и будь нашим водителем! простецов ещё не было.
И стала власть простоватая, жизнь простоватая, всё – проще некуда.
Утром проснулся, чаю попил, да до обеда дрыхни, а жизнь сама идёт, и жизнь эта – простецовая, здоровская. То за водкою, отоспавшись, соберутся, и давай галдеть: "В простецах-то лучше, чем в Обновлям-се – делать ничего не надо…" И пьют дальше, и спят дальше, а главный Простец, что в терем перебрался, знай себе позёвывает, да в затылке почёсывает.
Однако, оказалось, что совсем ничего не делать не получается: помойки смердят, в ямины дети падают, да и жрать нечего становится.
Вспомнили и Мясного царя, и Рыбного, и – к Простецу в терем:
— Давай придумывай чего не то!
А он:
— Чего ж я придумаю? Простец и есть… Рази вам протецовое житьё надоело?
Суть да дело, ухват да корыто, поглядели сердито, да пошли помойки убирать, ямы засыпать. А Простец знай себе водку дует, да в ус не… дует.
Помойки убрали, ямы засыпали, стали даже чего-то делать, о Простеце вспомнили, да расправляться не стали – просто на руках из терема вытащили, да – пинком, катись, куда знаешь.
Дела-то накапливались, накатывались, стали помаленечку переделывать, да тут странный какой-то явился – в платьишке, не в платьишке, не поймёшь: Мол, как живёте? Не так надо – без Высшего Существа – никуда.
Замерли, глядят на странного, пальцами в ладошках скребут.
— А какое оно – Высшее? – интересуется.
А в платьишке им отвечает:
— Невыразимое. Не здешнее. Будет в тереме жить, а вы ему служить обязаны.
— Как же – а ты что ль видал такое?
— Видал. Я – тута, а земле представляю. А вы работайте давайте, надрывайтесь, да меня питайте. И будет вам потом счастье.
— Когда потом-то? – вопрошают.
— А этого, - речёт важно, - никто не знает. Когда Существу заблаговолится.
И – пошёл в терем.
Стали так жить: что наработают, тащат к представителю Высшего Существа.
Тащат, расспрашивают, притащив:
— Ну, как оно? Ворочается?
— Сдурели? Нешто дел у него других нет – ворочаться! За всем бдит, всё видит, всех наблюдает, вам счастье потомошнее готовит. А вы – знать себе работайте, да меня питайте.
Работают. Питают. Стал представитель Высшего существа пузат, мордат, а ленивым всегда и был. А жители тощие-претощие, всё работают, всё питают его. Да устали больно, роптать стали.
— Что это за высшее – когда такого прислал? Не пойдёт так, не хотим больше.
И – в терем.
Лежит представитель на диване, почёсывается.
— Вы, - вскочил, верещит, ногами топочет, - как посмели! Да он… Да оно…
— Ты разберись сперва, кто – Он, Оно… А пока пошёл-ка вон, цел покуда.
Хотел было представитель кидать в них, чем придётся, да они шустрей оказались, даром, что тощие – вытащили его, навалившись гуртом, и – никаких потом. До границ городка несли – там пинками, катись, мол, и пошли себе, руки отряхивая.
Через какое-то время собрались, сели, задумались. Стали обсуждать, что у них было, кто ими правил.
— А Кувалд-Задирина помните?
— А то, - галдят. – Всё про кувалды трындел: у кого есть, тот и задира. А кто задира – того и победа. А на что победа, коли делать с ней что не знаешь?
Был у них такой, был, меж Рыбным и Мясным царями, всё задираться призывал: главное – победа.
— Недолго мы его терпели. Н-да.
— Точно – зачем такой? Одной из кувалд его же и приголубили. Нехай, победу празднует.
— Гы-гы…
— Хм-гмы…
Всех перебрали – вплоть до последнего.
— Высшему, мол, служи. А служили-то пузу его ненасытному!
— Точно!
— Так – как же нам дальше жить, а, жители?
Пригорюнились.
Думали, в затылках чесали, да порешили – жить, как все. Экспедиции наладили – к другим, ездили-путешествовали, узнавали, судили-рядили. Каквсешное житьё оказалось не трудным – работай чего-нибудь, домик строй, деток расти.
Ну, огородик там ещё, садик – поглядеть, коли от трудов утомишься.
…И с тех пор городок влился в плавный, хотя порой и с поворотами крутыми, исторический поток, стал таким же, как все, хоть маленьким, не приметным: из ниоткуда – из разливов лугов и лесополос – материализуется, точно мираж, вдруг оказавшийся реальностью – городок: невысокого облика, должно быть скромного нрава, без особых претензий на историческую хронику, да и история, казалось бы, должна обойти его…
Коль и заедет кто – про историю их не узнает, а в хрониках (их уж потом написали), всё, как у всех.